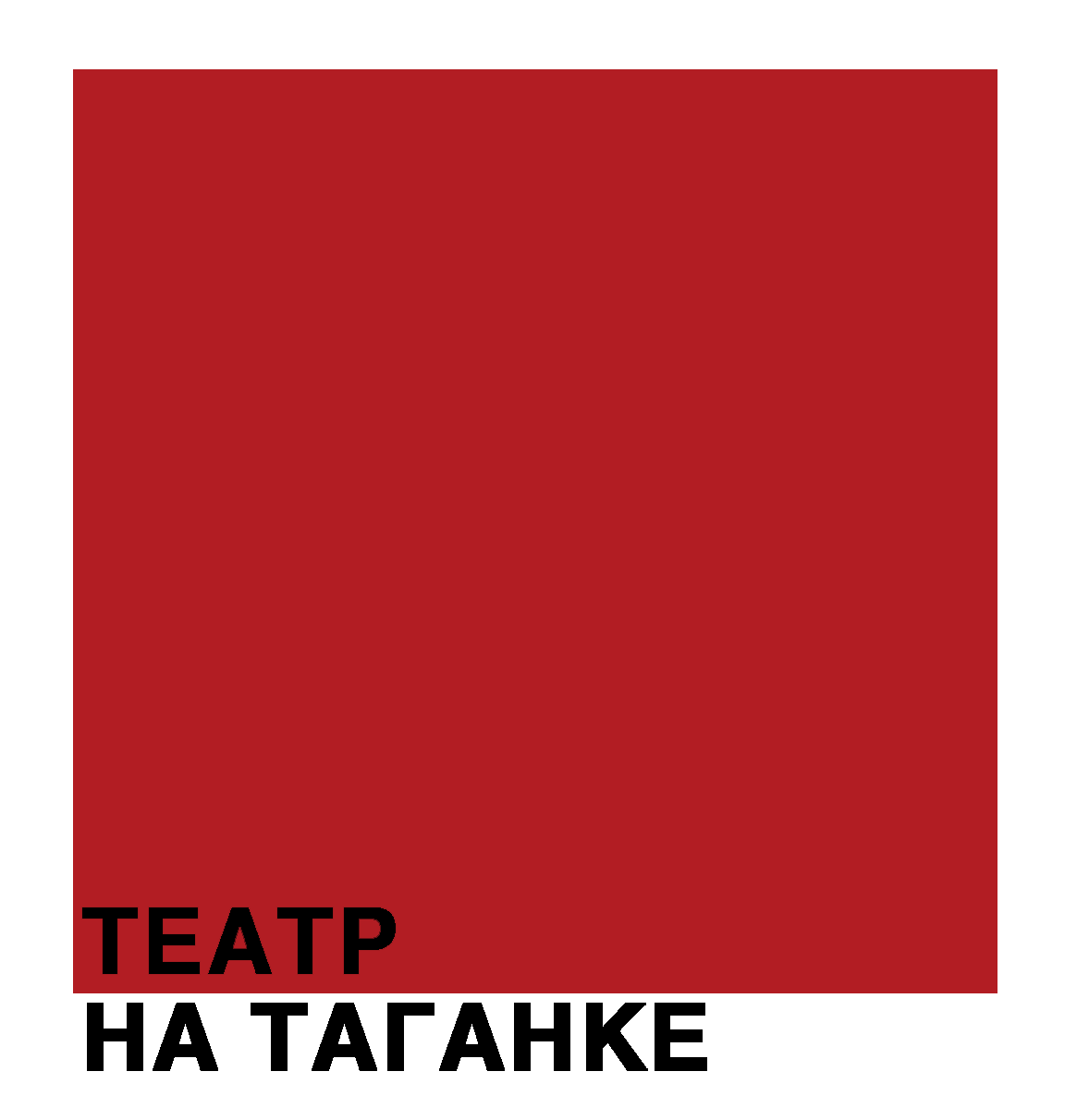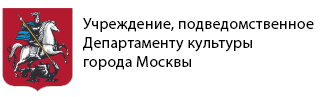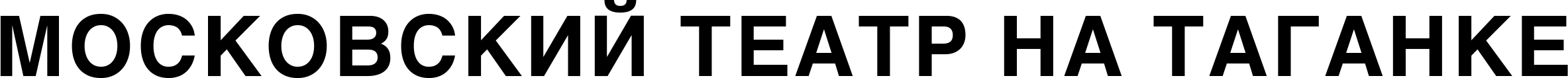-
О Театре
-
Афиша
-
Репертуар
-
Артисты
-
Новости
-
Новости
- «КОРИОЛАН»
- «ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК»
- О новом сайте Театра
- «Час Земли»
- Акция!
- Ночь в Театре на Таганке
- Московский культурный форум -2016
- Памяти Валерия Золотухина
- Перенос спектакля
- Седьмая сессия проекта «РЕПЕТИЦИИ»
- «Последние свидетели»
- Отмена спектакля «Золотой дракон»
- Отмена спектакля «Марат и маркиз де Сад»
- Ушел из жизни Феликс Антипов
- Сергей Собянин выразил соболезнования близким Феликса Антипова
- Соболезнования Александра Калягина
- Памяти Феликса Антипова
- Концерт, посвященный Дню Победы
- Отмена спектакля «Владимир Высоцкий»
- Восьмая сессия проекта «РЕПЕТИЦИИ»
- «Золотой дракон» на фестивале Seasons
- Спектакль «Ворон» на Малой сцене Театра на Таганке
- Девятая сессия проекта «РЕПЕТИЦИИ»
- «Флейта-позвоночник» на Красной площади
- Открытая лекция Ирины Апексимовой и Леры Сурковой
- 75 лет со дня рождения Валерия Золотухина
- Десятая сессия проекта «РЕПЕТИЦИИ»
- Премия газеты «Московский комсомолец»
- Закрытие сезона 2015-2016
- Международный фестиваль Шекспира
- 25 июля - день памяти Владимира Высоцкого
- У «Кориолана» началась международная история
- «Кориолан» вернулся с победой
- Сбор труппы Театра на Таганке
- Первый театральный благотворительный велозаезд «ТеатРалли»
- Сбор труппы Театра на Таганке и открытие 53-го сезона
- Акция «На работу на велосипеде»
- Тизер спектакля "ВИЙ"
- Василий Уриевский ("ВИЙ") в шоу "Голос"
- 99 лет со дня рождения Юрия Любимова
- Памяти Мастера
- Архив новостей
- Независимая оценка качества услуг учреждений культуры города Москвы
- Два спектакля в один день. Открытый показ
- Началась продажа билетов на спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит»
- Вручение премии "МК"
- Юлия Ауг на сцене Таганки
- «Вий» едет на фестиваль в Санкт-Петербург
- 24 декабря 2016 года исполнилось бы 70 лет выдающемуся актеру Таганки - Леониду Филатову.
- Сотрудничество ресторанного холдинга Iconfood и Театра на Таганке
- С Днем рождения, дорогая Ирина Викторовна!
- Изменение графика работы кассы театра
- Отмена спектакля "Золотой дракон"
- 25 января родился Владимир Высоцкий
- Поздравление от автора мюзикла "Суини Тодд"
- Изменения в репертуаре
- "Вий" в стиле Mannequin Challenge
- Замена спектакля
- «Вий» на фестивале, посвященном Вене Дркину
- Ушел из жизни Олег Казанчеев
- Ушел из жизни Дмитрий Межевич – один из ветеранов «Таганки»
- Открыта продажа билетов на спектакль «Чайка 73458»
- Скидка на билеты в День театра
- Юбилей Александра Трофимова
- Ночь в Театре на Таганке
- Театр на Таганке на Московском культурном форуме
- Указ Мэра Москвы о награждении
- Памяти Валерия Золотухина
- Ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко
- "Добрый человек из Сезуана" в Зеленограде
- Премия «Звезда Театрала»
- Изменения в репертуаре
- Проект «РЕПЕТИЦИИ» (12-я сессия)
- Акция «На работу на велосипеде» продлится 2 недели
- Изменения в репертуаре
- Юбилей Александра Калягина
- Перенос спектакля
- Проект «РЕПЕТИЦИИ». Продолжение.
- Конкурс «Московские мастера» по профессии «Специалист по вопросам охраны труда»
- Творческая встреча с директором и артистами Театра на Таганке
- Валерию Золотухину исполнилось бы 76 лет
- Театр на Таганке завершает театральный сезон 2016/2017 показом спектакля «Петербург»
- Сегодня 70 лет исполняется Алексею Граббе
- Отмена спектакля «Петербург»
- В музее «Мастерская Давида Боровского» открылась выставка «Боровский – Любимов. 30 лет вместе»
- Александру Анатольевичу Ширвиндту исполняется 83 года!
- Владимиру Высоцкому посвящается
- Сегодня День рождения отмечает Вениамин Смехов
- Отмена спектаклей на Малой сцене в сентябре и октябре
- Сегодня День рождения Олега Павловича Табакова
- 19 августа исполняется 80 лет со дня рождения Александра Вампилова
- 8 лет назад ушел из жизни Семен Львович Фарада
- Сбор труппы. Виртуальная реальность Театра на Таганке
- В спектакль "Мастер и Маргарита" вводится новый артист
- Отмена спектакля «ВИЙ» на Основной сцене 28 ноября в 19:00
- Розыгрыш путевок в Cronwell Hotels and Resorts
- Театральный марш 2017
- Театр на Таганке открывает XVIII Международный «Волковский фестиваль»
- Театр на Таганке получил диплом участника XVIII «Волковского фестиваля»
- Сегодня в спектакле «Мастер и Маргарита» сыграет Сергей Векслер
- Открытие Интерактивного музея в день памяти Юрия Любимова
- Помним, чтим, любим…
- 7 октября состоялась премьера спектакля «Старший сын» в постановке Дениса Бокурадзе
- Театр на Таганке принял участие в Международном театральном фестивале моноспектаклей «Solo»
- Премьера «Басня». Теория идеального наблюдателя. Билеты в продаже.
- Театр на Таганке объявлен в 5 номинациях «ЗОЛОТОЙ МАСКИ»
- Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР- Виталий Шаповалов.
- Театр на Таганке «приоткроет занавес»…
- Высоцкий и Таганка. Не все песни спеты...
- Идеальный наблюдатель в мире людей
- Ушел из жизни Леонид Сергеевич Броневой
- Внимание – изменения в афише
- Поздравление Мэра Москвы
- Отмена спектакля «Тартюф» 31 января
- Награждение артистов Театра на Таганке
- День рождения Владимира Высоцкого
- Внимание – изменения в афише!
- Юбилей Марины Полицеймако
- Внимание – изменения в афише!
- Актёры Театра на Таганке на вечеринке GQ "100 самых стильных" 2018
- Куда пойти в марте: в списке событий спектакль Театра на Таганке
- Ирина Апексимова три года возглавляет Московский Государственный Театр на Таганке
- «Звездный завтрак» 7 марта: Ирина Апексимова
- С 8 Марта!
- Награждение актрисы Московского театра на Таганке Юлии Куварзиной
- Ушёл из жизни Олег Павлович Табаков
- Культурный форум 2018
- Акция Ночь в театре
- Регистрация на "Ночь в театре" закрыта!
- Награждение актрисы Московского театра на Таганке Екатерины Рябушинской
- 25 марта - День работника культуры России
- ...
- Памяти Валерия Золотухина
- Благотворительный показ спектакля "Владимир Высоцкий"
- Кровавый Суини Тодд с неожиданной стороны
- Внимание – отмена спектакля 14 апреля!
- Золотая Маска 2018: Театр на Таганке получил три награды!
- С Днем рождения, Таганка!
- VOGUE Выход в свет: Гости театральной премии «Золотая маска»
- 8 мая 2018 года касса театра не работает
- Спектакль, посвященный Дню Победы!
- «Ночь музеев» 19 мая 2018
- Спектакль в честь праздника Дня защиты детей
- Защита детских персональных данных
- С Днём России, друзья!
- Открыта продажа билетов на новый театральный сезон
- Коллектив Театра на Таганке поздравляет мэра Москвы Сергея Собянина с юбилеем
- В Театре на Таганке проходят тренинги Яны Туминой
- Легендарный мюзикл Уэббера и Райса "ЭВИТА" на сцене Театра на Таганке
- Два юбилея в один день!
- Отзыв о спектакле "Басня. Теория идеального наблюдателя"
- Отзыв о спектакле "Эльза"
- Отзыв о спектакле "Басня. Теория идеального наблюдателя". Спектакль-загадка
- ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ СЕЗОНЕ!
- Изменения в режиме работы кассы
- Желаем Ивану Бортнику скорейшего выздоровления
- Театральный марш 2018
- Не стало Дмитрия Брусникина
- Юбилей Дальвина Щербакова
- Выборы Мэра Москвы
- Старт 55-го сезона
- Отмена спектакля «8 (Восемь)» 23 сентября
- Сбор труппы 2018
- Юбилей Заслуженного артиста России Александра Резалина
- Отмена спектакля «Кориолан» 12 октября
- Новые роли
- Всероссийское исследование театральной аудитории от ГИТИС
- Открыта продажа на «Теллурию» Константина Богомолова
- Замена спектаклей «Эльза» и «Кориолан»
- «Беги, Алиса, беги» в пяти номинациях «Золотой маски» 2019!
- Отмена спектакля «Эльза» 6 ноября и 2 декабря
- Видео-материалы для проведения уроков по вопросам защиты персональных данных
- 50 лет спектаклю «Тартюф»!
- Юбилей народного артиста России Юрия Смирнова
- «Красная шапка» 10 ноября
- Премьера спектакля «Теллурия» по роману Владимира Сорокина в Театре на Таганке переносится на январь 2019 года
- Отмена премьеры «Теллурии»
- Вход на Малую сцену
- Кадровый центр департамента культуры города Москвы
- Отмена спектакля «Басня» 19 декабря
- Новый год по-взрослому
- Спектакль «Эффект Гофмана» Яны Туминой раскроет тайны жизни автора «Щелкунчика»
- Музыка и кофе: Театр на Таганке перезагружает Малую сцену
- Предпоказ спектакля «Эффект Гофмана»
- Открыта продажа на февральские спектакли
- Финальный показ спектакля «Золотой дракон»
- Юбилей актрисы Екатерины Рябушинской
- Умер Иван Бортник
- Церемония вручения премии «Своя колея»
- Предпремьерные показы Теллурии 7 и 8 февраля
- «Старший сын» Дениса Бокурадзе – финалист премии «На благо мира» 2018
- Премьера спектакля «Эффект Гофмана»
- Возвращение спектакля «Эльза»
- Скидка на билеты на спектакль «Беги, Алиса, беги»
- Скидка на билеты на спектакль «Чайка 73458»
- Вводы в спектакли
- Юбилей актера Филиппа Котова
- Премьера спектакля «Теллурия» Константина Богомолова
- Ночь театров 2019
- Изменения в репертуаре
- Афиша на май
- Открыта регистрация на «Ночь театров» в Театре на Таганке
- Премьера спектакля «Сосед»
- Остерегайтесь мошенников
- Благодарность Мэра Москвы артистам Театра на Таганке
- Исследование театральной аудитории от Российского института театрального искусства (ГИТИС)
- Афиша июня
- Переносы спектаклей «Тартюф» и «Добрый человек из Сезуана» в мае
- 55 лет Театру на Таганке!
- «Золотая маска» у спектакля «Беги, Алиса, беги»
- Замена «Старшего сына» 27 июня на премьерный спектакль «Сосед»
- «Красная шапка» — лауреат международного фестиваля камерных спектаклей LUDI в номинации «Лучшая режиссура»
- Открыты продажи билетов на сентябрь и октябрь
- Летние каникулы у кассы
- 55-й сезон закрыт
- Новые правила продажи театральных билетов
- День памяти Владимира Высоцкого
- Открытие 56-го сезона
- Сбор Труппы
- Ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Славина
- Ирина Апексимова объявила планы Театра на Таганке на 56-ой сезон
- Театральный марш 2019
- Открыта продажа билетов на ноябрь
- Премьера "Последние пять лет".
- Юбилей Анатолия Васильева
- Благотворительный показ спектакля «Старая, старая сказка»
- Отмена спектакля "Красная шапка"
- День рождения Юрия Любимова
- Премьера спектакля "Горка"
- Состоялся показ спектакля "Эпос хищника"
- Инновационная лаборатория "Метаморфозы Таганки"
- Музыкальная лаборатория "Метаморфозы Таганки"
- Умер актер Виктор Семенов
- Презентация проектов «Метаморфозы Таганки»
- Гастроли в Волгограде
- Благодарность министра Правительства Москвы
- Открыта продажа билетов на февраль
- Спецпроект VISIONAR X BURO. При поддержке Театра на Таганке.
- День рождения Ирины Апексимовой
- Отмена спектакля "Добрый человек из Сезуана"
- Премьера спектакля «Lё Тартюф. Комедия»
- Первый Канал о предстоящей премьере
- День рождения Владимира Высоцкого
- Состоялась премьера спектакля «Lё Тартюф. Комедия»
- День рождения Марины Полицеймако
- Премьера спектакля «Старший сын» на Основной сцене
- 13 и 14 марта Лариса Долина на сцене Театра на Таганке
- Акция «Ночь театров 2020»
- Лариса Долина стала гостем программы «Вечерний Ургант»
- Отмена спектаклей 7 и 8 апреля
- День рождения Анастасии Колпиковой
- Дебют Ларисы Долиной в Театре на Таганке
- Ограничение деятельности театра в связи с коронавирусной инфекцией
- Премьера спектакля «Снегурочка»
- «Lё Тартюф. Комедия»: online-трансляция и дополнительный показ 22 мая
- #театрнатаганкедома
- Online-трансляция спектакля «Чайка 73458»
- День рождения Театра на Таганке
- Видеовыставка, посвящённая деятельности фронтовых театров
- День рождения Сергея Векслера
- Онлайн-спектакль «Павшие и живые»
- Музыкальный челлендж #ПарадХитов
- Труппа Театра на Таганке приступит к репетициям 29 июня
- Ирина Апексимова примет участие в международной конференции «АРТtalk. Искусство после»
- Театр на Таганке возобновил репетиции
- Репетиции 2020
- Открытие 57-го сезона
- День памяти Владимира Высоцкого
- Актеры Таганки спели Высоцкого для «Известий»
- Театр на Таганке открывается для зрителей
- Репортаж «Вестей» с открытия Театра
- Юбилей Вениамина Смехова
- Ушёл из жизни Николай Губенко
- Открыта регистрация на спектакли Театрального марша 2020
- Репортаж «Первого канала» о предстоящей премьере «Снегурочки»
- Театральный Марш 2020
- Гастроли в Воронеже
- Фестиваль «Золотая Маска»
- Встреча перед премьерой у Бахрушина
- Премьера Снегурочки
- День рождения Юрия Любимова
- Правила посещения театра
- Презентация проекта «Будущее, я люблю тебя»
- Правила посещения театра
- Режим работы кассы
- «Снегурочка» в рамках фестиваля «Территория»
- Премьера «Отелло» 5 декабря
- Премия Сноб «Сделано в России».
- Онлайн-трансляция спектакля «8 (Восемь)»
- Онлайн-трансляция киноспектакля «Ищет Милиция»
- C Новым 2021 годом!
- День рождения Ирины Апексимовой
- Начало репетиций спектакля «Вишневый сад»
- День рождения Владимира Высоцкого
- Фестиваль «Золотая Маска»
- День рождения Марины Полицеймако
- Концерт «Необарды на Таганке»
- 8 марта
- «Ночь театров» в Театре на Таганке
- Благодарственные письма от Правительства Москвы
- Гастроли «Отелло» в Саратове
- День рождения Театра на Таганке
- Премьера «Вишневый сад. Комедия»
- «Спутники» Дня Победы
- Театр на Таганке подарил сказку детям
- Ушел из жизни режиссер Театра на Таганке Валентин Леонидович Рыжий
- Актриса и директор театра Ирина Апексимова стала заслуженной артисткой России
- Открытие 58 сезона
- Театр присоединился к программе "Пушкинская карта"
- 11 сентября в честь Дня города в Театре на Таганке пройдут бесплатные экскурсии
- Сегодня свой юбилей отмечает народная артистка РСФСР Жанна Андреевна Болотова
- 13 октября состоялась первая встреча рабочей группы объединённого «Театра на Таганке» с главным архитектором здания Александром Анисимовым
- Правила посещения театра
- Увеличение заполняемости зала
- Юрий Муравицкий – о первых шагах на посту главного режиссера
- Юрий Муравицкий: «Делать больше, чем прописано»
- Театр на Таганке отметил День рождения Владимира Высоцкого
- Перенос спектакля
- Перенос спектакля «8 (Восемь)»
- Перенос спектакля «Дурь»
- Вводы в «Вишневый сад. Комедию»
- Отмена спектакля «Отелло»
- Отмена спектакля «Весёлого Рождества, мама!»
- Где взял ты, идальго, русскую грусть
- Отмена QR-кодов
- Отмена спектакля «Снегурочка. 16+»
- Театр на Таганке в Телеграме и ВКонтакте
- Отмена спектакля «Четыре тоста за победу»
- «Ночь театров» в Театре на Таганке
- «Мастер и Маргарита» - 45 лет спустя
- Поздравляем наших соавторов с премией «Золотая маска»
- Замена спектакля 21 апреля
- День рождения Театра на Таганке
- Всероссийская акция "Летопись сердец"
- Всероссийская акция «Минута молчания»
- Ночной велофестиваль 9 июля
- Cбор средств на восстановление Мариупольского драматического театра
- Открытие 59-го театрального сезона
- При поддержке компании «Полюс» труппа Театра на Таганке едет на гастроли в Иркутск
- Независимая оценка качества
- Ирина Апексимова: "Работа в Театре на Таганке – хороший знак"
- Интервью с режиссёром спектакля "Поцелуй. Конармия" Денисом Азаровым
- День Рождения Николая Лукьяновича Дупака
- Будьте внимательны!
- ГРИПП: симптомы и профилактика
- Театр на Таганке становится частью масштабной копродукции Международного Чеховского фестиваля
- «Ночь театров» в Театре на Таганке
- Ушёл из жизни Николай Лукьянович Дупак
- В Международный день театра Театр на Таганке поздравляет артистов и сотрудников театра, которые получили благодарности!
- 9 мая в Театре на Таганке
- Ушёл из жизни Виктор Шуляковский
- Спектакль «Муму» в рамках Международного фестиваля им.А.П. Чехова в Театре на Таганке
- Итоги 59-го сезона
- Открытие 60-го сезона
- Творческая встреча с Ириной Апексимовой
- «В поисках жанра». Конкурс современной поэзии
- Юбилей Юрия Смирнова
- Начата работа по созданию памятника Юрию Петровичу Любимову. Открыт сбор средств
- Ушел из жизни Виталий Вашедский
- Лонглист конкурса современной поэзии «В поисках жанра»
- Ушла из жизни Алла Богина
- «Ночь театров» в Театре на Таганке
- «В поисках жанра». Результаты конкурса современной поэзии
- Изменения в афише
- Сезон Премии #МЫВМЕСТЕ-2024 — уже здесь!
- День Победы в Театре на Таганке
- Итоги 60-го сезона
- Город обсуждает стандарты культурного досуга
- Планы на 61-й сезон!
-
-
Театральный марш
-
Пресса
-
Пресса
- Для героев любых времен актуален толпы закон
- В Театр на Таганке вернулась актуальная режиссура
- Драконы, бесы и ужасные дети
- Москва в деталях: Театр на Таганке
- На Таганке снова один против всех
- У войны не детское лицо
- Последние свидетели
- Кто завтра будет ставить на Таганке?
- Таганка показала «Иллюзии» любви и любовь без иллюзий
- Таганку осветили любимовскими фонариками
- «Не верил, что смогу что-то поставить в театре, откуда Любимов ушел» - Вениамин Смехов
- Режиссер "Таганки" Вячеслав Тыщук: справедливый гнев приводит к беде
- Эксперимент на Таганке
- Недоросль: о том, как выгодно быть глупым
- В Театре на Таганке состоялся показ спектакля «Хлам»
- Таганский "Петербург"
- Театр на Таганке поставил спектакль об истоках терроризма
- Юлия Ауг – мастер феминистских историй
- Театр на Таганке представит новый спектакль "Эльза"
- Режиссер Юлия Ауг рассказала о новом спектакле Театра на Таганке
- Ромео и Джульетта 70+
- Любовь сильнее смерти
- Юлия Ауг: ужас приходит от осознания, что созданное тобой начинает жить собственной жизнью
- Большое интервью Юлии Ауг
- Программа "Главная роль" с Юлией Ауг
- «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит»: занавес приоткрывается…
- На Таганке случилась последняя нежность
- Долгожданная премьера спектакля «Земля Эльзы»
- Ирина Апексимова подвела итоги театрального сезона: «Мы победили»
- Ирина Апексимова: театр – это любовное дело
- Взрыв на сцене. Актеры Театра на Таганке покорили публику своим прочтением Шекспирa
- Мюзикл «Суини Тодд» в Театре на Таганке получит финансирование от правительства Москвы
- Мюзикл "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" покажут на сцене Таганки
- Театральный сезон в Москве откроется марафоном постановок в саду "Эрмитаж"
- Театр на Таганке в новом сезоне поставит "Петербург", "Суини Тодда" и "Красную шапочку"
- Московские драмтеатры запоют и затанцуют
- В Театре на Таганке поставят «Суини Тодда»
- Мюзикл покоряет драмтеатры Москвы
- Вий, Опричник, Гроза и чья-то жена в шляпе: премьеры нового театрального сезона
- Кафка, мюзиклы и шпионаж
- В Театре на Таганке поставят знаменитый мюзикл «Суини Тодд»
- "Москва в деталях": чем удивит новый театральный сезон
- «Таганка» собралась на марш
- Сочинение на тему
- Театр на Таганке устроил пикник в Эрмитаже
- Театр на Таганке открывает новый сезон
- Актеры Театра на Таганке в интервью о новом сезоне
- "Эльза" в Театре на Таганке
- Василий Уриевский сыграет в "рок-н-драме" Театра на Таганке
- Таганка без спектаклей Любимова: стоит ли возмущаться?
- Архив публикаций
- Рок-н-драма: в Театре на Таганке - нетривиальный "Вий"
- Театр на Таганке представит рок-спектакль "Вий" по Гоголю
- “Вий” в Театре на Таганке: Рок-н-ролл мертв, а панночка – нет
- Не панночка, а просто чудо! Театр на Таганке показал свою версию «Вия»
- Две премьеры состоятся в театре на Таганке
- Смертельное искушение в Театре на Таганке
- Гоголь – это рок
- "Вий", театр на Таганке. 16.10.2016 (премьера)
- В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля луганского режиссёра
- Александра Басова: Таганка звучит как оркестр
- Призраки террора
- Ирина Апексимова заинтриговала сообщением о необычной театральной премьере
- Александр БАРКАР: «Я не боюсь, что меня могут не понять»
- Встреча с Ириной Апексимовой на радио Маяк
- В Театре на Таганке представили спектакль для юных зрителей "Старая, старая сказка"
- Брадобрей с Таганки
- В Таганке поставили кровавую историю по мотивам лондонских легенд
- Буду резать, буду бить - парикмахер выходит на тропу войны
- Впервые в России поставили мюзикл Стивена Сондхайма
- Между музеем и мюзиклом
- В ритме фарша
- «Суини Тодд» в Театре на Таганке. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 27.01.2017
- Юлия Ауг поставила спектакль "Эльза" в Театре на Таганке
- В Москве в Театре на Таганке зрителям представили первый детский спектакль
- Фарш, фарш левой!
- «Суини Тодд» в Театре на Таганке: С хрустящей корочкой
- В Театре на Таганке появился мюзикл-триллер "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит"
- В Москве прошла премьера мюзикла "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит"
- Таганский цирюльник
- «Актерская профессия — она ни про что»
- Суини Тодд – маньяк-цирюльник с Флит-Стрит
- Известный маньяк-цирюльник с Флит-стрит переехал на Таганку
- «В театр должна стоять очередь»
- «Мы однозначно не похожи на других!» Ирина Апексимова — об иммерсивном мюзикле «Суини Тодд»
- Алексей Франдетти: «Время «поющих голов» прошло»
- В Театре на Таганке репетируют "Чайку 73458" с Апексимовой в главной роли
- Интервью Ирины Апексимовой, 1 канал, Доброе утро
- Cпектакль "СУИНИ ТОДД" - Театр на Таганке
- «Суини Тодд»: идти или не идти
- Алексей Франдетти о "Суини Тодд" и духе Театра на Таганке
- Режиссер Алексей Франдетти о новом мюзикле и его герое цирюльнике-убийце
- Контакт с антрактом
- Алексей Франдетти: «Москва созрела для иммерсивного театра только сейчас»
- В Театре на Таганке покажут "Красную Шапочку" для взрослых
- В таганской «Красной шапочке» нет волка. Но он всё-таки будет
- В Московском Театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Красная Шапочка»
- Красная шапочка для дракона
- В Театре на Таганке состоялась премьера "Красной шапочки" по пьесе Жоэля Помра
- Литовский режиссер ставит в Театре на Таганке спектакль "Чайка 73458"
- Ирина Апексимова: Я стала директором Театра на Таганке, взяв себя на «слабо»
- Ждать или не ждать, вот в чем вопрос
- В акции «Воскресный папа» приняли участие дети из ЮВАО
- Театральные орнитологи пересчитали всех чаек
- Чайка 73458. В контексте вечности
- "Чайка" на Таганке
- Чайка 73458 в театре на Таганке или Чехов с литовским акцентом
- Ирина Апексимова выйдет сегодня на сцену Театра на Таганке в роли Аркадиной
- Ирина Апексимова дебютирует на сцене Театра на Таганке в премьере "Чайки 73458"
- "ЧАЙКА 73458" в Театре на Таганке
- Премьера спектакля "Чайка 73458" по пьесе Чехова пройдет в театре на Таганке
- «Чайка 73458»: Чехов и чистилище
- «Чайка 73458». Доброе утро. Фрагмент выпуска от 19.04.2017
- «ЧАЙКА 73458»
- Ирина Апексимова дебютирует на сцене Таганки
- "У тех, кто любит светские мероприятия, театр стал модным"
- Чайка-дочь и чайка-мама
- Ирина Апексимова: в театре меня за глаза называют Дашиной мамой
- Пронумерованная Чайка на московской сцене
- Ирина Апексимова приревновала дочь к беллетристу Тригорину
- Столичный Театр на Таганке представил новую версию "Красной Шапочки"
- Театр на Таганке представит спектакль «Сцены из рыцарских времен»
- ЧАЙКА В ЛИТОВСКОМ РАКУРСЕ
- Вечная Чайка под легким ветром
- Театр на Таганке покажет "Сцены из рыцарских времен"
- Театр на Таганке представит спектакль «Сцены из рыцарских времен»
- Последнюю пьесу Пушкина покажут в Театре на Таганке
- Интервью с Ириной Апексимовой: эксклюзив FashionTime.ru
- «Красная Шапочка» на новый лад
- Чайка из Далёка
- Сцены из любимовских времён
- «Таганка» попросила прощения у Рыцаря Юрия Любимова, поставив последнюю пьесу Пушкина
- «Я — за эмоциональный и чувственный театр»
- В Театре на Таганке поставили спектакль по методу Юрия Любимова
- Сцены из рыцарских времён
- Любимову посвящается или Премьера на Таганке
- Рождественский концерт в Театре на Таганке Татьяны Жановой
- «Чайка 73458». Театр на Таганке
- Кориолан в Театре на Таганке
- Две премьеры состоятся в театре на Таганке
- "Интервью": Ирина Апексимова – о знаковых событиях в театре на Таганке
- Зачем быть сильной в мирное время
- Интервью с актрисой и директором театра на Таганке Ириной Апексимовой
- Театральный марш
- Ирина Апексимова пройдет с маршем в День города Москвы
- Фестиваль «Театральный марш» откроет новый сезон в День города
- «Театральный марш», фестиваль театрального искусства, спектакли для детей и взрослых в саду «Эрмитаж», Москва
- Апексимова пригласила зрителей на «Театральный марш»
- Фестиваль «Театральный марш»
- Фестиваль "Театральный марш" откроет новый сезон в Москве в день города
- Фестиваль «Театральный марш» в Москве откроет новый сезон в День города
- В столичных парках пройдут празднования в честь Дня города
- Театр нон-стоп: в день города пройдет "Театральный марш"
- Фестиваль "Театральный марш" откроет новый сезон в день города
- Фестиваль «Театральный марш»
- Театр на Таганке откроет сезон на уличном фестивале "Театральный марш"
- Авторские новости от Ирины Апексимовой
- Фестиваль «Театральный марш» откроет новый сезон в День города
- Ирина Апексимова: в Театр на Таганке можно будет попасть за 1 рубль
- Городской праздник Театральный марш
- Театр на Таганке готовит в новом сезоне две премьеры и технологию VR Tickets
- Две премьеры представит Театр на Таганке в новом сезоне
- Сбор труппы Театра на Таганке
- Театр на Таганке покажет в новом сезоне две премьеры
- В Театре на Таганке готовятся отметить столетие Юрия Любимова
- Театр на Таганке первым запускает технологию "виртуального присутствия" VR TICKETS
- Театр на Таганке выпустит виртуальные очки с эффектом присутствия
- Ирина Апексимова пообещала удаленный доступ к "Театру на Таганке"
- В Театре на Таганке устроят виртуальный тур по кабинету Юрия Любимова
- Сбор труппы московского театра на Таганке
- Театр на Таганке в новом сезоне поставит спектакль к 80-летию Высоцкого
- Фестиваль театральный марш откроет новый сезон в день города
- Фестиваль Театральный марш
- Куда пойти в сентябре: 20 идей для желающих культурно провести время
- Фестиваль «Театральный марш»
- 9-10 сентября: День Города в саду «Эрмитаж»
- В саду «Эрмитаж» прогремит «Театральный марш»
- Культурный уикенд: выбор «Известий»
- «Театральный марш» соберет спектакли всех жанров
- Театр на Таганке открывает «Волковский фестиваль»
- Волковский фестиваль в этот раз стал Любимовским
- Волковский фестиваль объединит 11 театральных коллективов
- Театр на Таганке открывает «Волковский фестиваль»
- Театр на Таганке выступит на родине Юрия Любимова в Ярославле
- Интерактивный музей в память о Юрии Любимове откроют в Театре на Таганке
- В Театре на Таганке откроют интерактивный музей Юрия Любимова
- В Театре на Таганке откроется музей памяти Юрия Любимова
- Открытие интерактивного музея в Театре на Таганке
- В Театре на Таганке откроют интерактивный музей в память о Юрии Любимове
- Театр на Таганке готовится к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова
- Собянин открыл музей Юрия Любимова в Театре на Таганке
- Собянин открыл музей Юрия Любимова в Театре на Таганке
- Музей Юрия Любимова открылся после ремонта в театре на Таганке
- Ремонт Театра на Таганке завершили к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова
- В Театре на Таганке рассказали об интерактивном музее к столетию Любимова
- Собянин открыл музей Юрия Любимова в Театре на Таганке
- К 100-летию Юрия Любимова на Таганке появился его виртуальный кабинет
- Собянин открыл музей Юрия Любимова в Театре на Таганке
- В Театре на Таганке после ремонта открылся музей Юрия Любимова
- В Театре на Таганке откроют виртуальный кабинет Юрия Любимова
- Собянин: завершен капремонт исторического здания Театра на Таганке
- Собянин открыл музей Юрия Любимова в Театре на Таганке
- Театр свободы Юрия Любимова
- Интерактивный музей Мастера в театре на Таганке: что увидят зрители
- Премьера спектакля «Старший сын»
- Спектакль «Старший сын» в Театре на Таганке
- Спектакль «Старший сын»
- Премьера спектакля «Старший сын» в постановке Дениса Бокурадзе
- Вампилов на Таганке
- Театр на Таганке поставил "Старшего сына" к 80-летию Александра Вампилова
- Премьера спектакля «Старший сын» в постановке Дениса Бокурадзе
- "Старший сын" на Таганке: вопрос об энергии души
- Занавес поднимается: какие премьеры пройдут в московских театрах осенью
- Старший сын
- Спектакль «Старший сын» в «Театре на Таганке»
- В «Театре на Таганке» в октябре выйдет премьера «Старший сын» в постановке Дениса Бокурадзе
- Театр на Таганке покажет в новом сезоне две премьеры
- 10 самых интересных театральных премьер осени
- Старший сын
- Старший сын
- Самые яркие театральные премьеры осени
- Московские театры готовят премьеры к 80-летию со дня рождения Александра Вампилова
- Болдинская осень на сцене. Руководители ведущих театров готовят обновленный репертуар
- Культурный уикенд: выбор «Известий»
- Театр на Таганке представит спектакль Вампилова "Старший сын"
- Театр на Таганке представит спектакль Вампилова «Старший сын»
- Театр на Таганке отмечает юбилей Александра Вампилова
- Премьерный показ спектакля «Старший сын» состоится в театре на Таганке
- «Старший сын»: Театр на Таганке обратился к советской классике. Фоторепортаж
- Театр на Таганке представит спектакль Вампилова «Старший сын»
- Николай Чиндяйкин встретился со старшим сыном спустя 45 лет
- Театр на Таганке представит первую премьеру сезона - "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова
- Театральные премьеры осени: какие спектакли посмотреть в Москве в новом сезоне
- Театр на Таганке представит спектакль Вампилова "Старший сын"
- Театр на Таганке поставил "Старшего сына" к 80-летию Александра Вампилова
- Премьера спектакля "Старший сын"
- О самом важном с камерной интонацией. В Театре на Таганке поставили пьесу Вампилова "Старший сын"
- Театр на Таганке выпустил «Старшего сына» в постановке Дениса Бокурадзе
- Девичьи грезы, мужские слезы
- От мюзикла до хулиганства в классике: главные спектакли октября в Москве
- План на октябрь: чем заняться в плохую погоду
- МЯГКИЕ ЛЮДИ
- «Гараж», Театр на Таганке и Парк Горького: куда идти после работы в эту пятницу
- 8 необычных и смелых спектаклей для подростков
- СПЕКТАКЛЬ «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» ПО МОТИВАМ ПЬЕСЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДРАМАТУРГА И РЕЖИССЕРА ЖОЭЛЯ ПОМРА
- Театр на Таганке представил премьеру спектакля «Старший сын» к юбилею Вампилова
- Культурный уикенд: выбор «Известий»
- TOP-FIVE: лучшие новые вокалисты сезона 2016-2017
- Премьера спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Московском театре на Таганке
- Андрей Кайдановский поставит «Басню» в Театре на Таганке
- Спектакль «Басня»
- Хореограф Андрей Кайдановский готовит премьеру в Театре на Таганке
- В Театре на Таганке состоится премьера пластического спектакля "Басня"
- Звезда Венской оперы Кайдановский поставит спектакль в театре на Таганке
- На Таганке исполнят «Басню»
- Теория идеального наблюдателя
- Театр на Таганке представит новый формат пластического спектакля «Басня»
- Спектакль Басня
- Иммерсивные премьеры: 17 способов сходить в театр
- СУИНИ ТОДД, МАНЬЯК–ЦИРЮЛЬНИК С ФЛИТ-СТРИТ
- Суини Тодд
- Красная шапочка
- Театр на Таганке представил премьеру спектакля «Старший сын» к юбилею Вампилова
- На сцене Театра на Таганке — сказка для взрослых «Красная шапочка»
- Премьера спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Московском театре на Таганке
- В Театре на Таганке идут репетиции спектакля Басня
- Андрей Кайдановский: Московского зрителя я не буду жалеть
- Театр на Таганке. 01.12.2017. Фоторепортаж
- В московском Театре на Таганке идут репетиции спектакля Басня
- Зрители Таганки разделились во мнении о пластическом спектакле Басня
- Теория идеального наблюдателя
- НА ТАГАНКЕ ИСПОЛНЯТ БАСНЮ
- Премьера Басни в Театре на Таганке
- Андрей Кайдановский поставит спектакль в Театре на Таганке
- Звезда венской оперы Андрей Кайдановский ставит спектакль в Театре на Таганке
- Театр на Таганке приоткроет занавес
- Культурный уикенд: выбор Известий
- Спектакль Басня
- В Театре на Таганке премьера - спектакль Басня
- Андрей Кайдановский ставит в Москве спектакль для Театра на Таганке
- Басня
- Спектакль Басня в Театре на Таганке
- Андрей Кайдановский поставит Басню в Театре на Таганке
- Звезда Венской оперы Андрей Кайдановский поставит Басню
- Звезда Венской оперы Андрей Кайдановский поставит спектакль Басня в Театре на Таганке
- Звезда Венской оперы Андрей Кайдановский поставит Басню в Театре на Таганке
- Теория безупречного наблюдаещего. Премьера Басня в Театре на Таганке
- Хореограф Венской оперы Кайдановский поставит спектакль в театре на Таганке
- Открытая репетиция пластического спектакля Басня в Театре на Таганке
- Театр и академия
- «Беги, Алиса, беги»…К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого
- «Беги, Алиса, беги». Как Театр на Таганке отметит 80-летие Высоцкого
- «Беги, Алиса, беги» в Театре на Таганке
- Ирина Апексимова стала Червивой Королевой
- «Алиса»: туда и обратно
- Сказка Высоцкого «Алиса в Стране чудес» в Театре на Таганке
- Максим Диденко: "Хочется убежать, но некуда"
- Беги, Таганка, беги!
- Алиса, это Владимир Семенович
- «Алису» Высоцкого поставили в его родной Таганке
- Побег на месте
- Много неясного в этой стране: «Беги, Алиса, беги» в Театре на Таганке
- Андрей Кайдановский: «Уверен, папа мне помогает»
- Алиса, предъяви документы!
- Спрятавшись за Высоцким
- Спектакль «Басня. Теория идеального наблюдателя» в Театре на Таганке
- «Басня» в Театре на Таганке. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 26.03.2018
- Кайдановский представил спектакль «Басня»
- Гоголь, драма, рок-н-ролл
- «Максим Диденко - один из самых нужных сегодня режиссёров»
- Премьера в Театре на Таганке: 8 частей «Бесов» Достоевского
- Восемь граней Ставрогина в Театре на Таганке
- Режиссер Яна Тумина: Реальность, которая превращается в сказку, близка мне с детства
- Спектакль «Эффект Гофмана» Яны Туминой в Театре на Таганке: видеть то, что не видят другие
- Яна Тумина: «Когда пристально смотришь на реальность, она начинает сдвигаться»
- Гвозди из будущего
- Гвоздь счастья: Театр на Таганке поставил «Теллурию»
- Гвоздь программы: «Теллурия» Константина Богомолова в Театре на Таганке
- Рецензия: «Теллурия»
- «Эффект Гофмана»: первый спектакль Яны Туминой в Москве
- Россия будущего: Богомолов поставил «Теллурию» Сорокина
- 3D-сны господина Гофмана
- Ирина Апексимова. Стены и углы «Таганки»
- Режиссер Лера Суркова: «В Москве никто никогда не может расслабиться»
- Интервью с режиссером спектакля «Сосед» Лерой Сурковой
- Как долго я тебя искал. Премьера спектакля «Сосед» в Театре на Таганке
- «Сосед»: Спектакль из вселенной Дэвида Линча
- В Театре на Таганке поселился «Сосед»
- Театр для богатых и бедных
- Московские театры ожидают 6,5 млн зрителей по итогам театрального сезона
- Компания Bazelevs Бекмамбетова станет куратором лаборатории в Театре на Таганке
- Театр на Таганке откроет сезон с российской премьеры спектакля "Последние пять лет" Франдетти
- 5 самых интересных театральных постановок сентября
- "Беги, Алиса, беги": чем поражает психоделический мюзикл по Кэрроллу и Высоцкому
- BWWorld Review: THE LAST FIVE YEARS at Taganka Theatre
- В Театре на Таганке - премьера мюзикла Алексея Франдетти "Последние пять лет"
- Гибель любви: Театр на Таганке покажет бродвейский хит "Последние пять лет"
- 50 оттенков любви, или «Ла-Ла Ленд» в Театре на Таганке
- Данил Чащин репетирует на Таганке первую московскую версию «Горки»
- В Театре на Таганке готовится премьера спектакля «Горка»
- Интервью с Данилом Чащиным: мне интересен любопытный зритель
- Режиссёр Данил Чащин - о своей постановке "Горка" в Театре на Таганке
- В Театре на Таганке - премьера спектакля "Горка"
- Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
- «Горка» на Таганке
- Божественная трагикомедия
- Как построить «Горку» и не сойти с ума: премьера в Театре на Таганке
- Актёры Театра на Таганке воплотили Вавилонскую башню – Горку
- «Горка»: поговорим о человечности
- Таганка-гана-дырдынбай: в центре Москвы построили «Горку»
- ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ СОСЕД
- Куда ушла любовь
- Тимур Бекмамбетов планирует поставить спектакль в Театре на Таганке
- Искусственный интеллект с голосом Высоцкого появится в Театре на Таганке
- Театр на Таганке открыл фестиваль Достоевского в Великом Новгороде
- Очень много «Бесов»: фестиваль Достоевского начался в Великом Новгороде
- «Абсолютно новогодний спектакль». В Театре на Таганке теперь есть «Горка»
- От комедии дель арте до виртуальной реальности. Что смотреть в театрах до конца года
- Метаморфозы Таганки
- 5 спектаклей перед Новым годом.
- Репетиция спектакля «Lё Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке.
- Театр на Таганке готовит премьеру - cпектакль «Lё Тартюф.Комедия»
- Премьерный показ спектакля «Lё Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке
- «Lё Тартюф» в Театре на Таганке.
- «Lё Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке: смех не спасает от удушья
- «Lе Тартюф». Все готово к премьере!
- Театр на Таганке показал трейлер спектакля «Lе Тартюф.Комедия».
- Пять причин, чтобы посетить новый спектакль Театра на Таганке «Lё Тартюф. Комедия»
- "Действующие лица" "Lё Тартюф.Комедия". Премьера в Театре на Таганке
- Театр на Таганке представит спектакль "Lё Тартюф"
- Один подлец и много поролона. Как устроен спектакль Театра на Таганке «Lё Тартюф. Комедия»
- В Театре на Таганке покажут нового "Тартюфа"
- Театр на Таганке покажет первую премьеру года – "Lё Тартюф. Комедия"
- Театр на Таганке представит первую премьеру 2020 года
- Рэп, барокко, много поролона и крики в мегафон: новый «Тартюф» в Театре на Таганке
- Парад масок, искрометный юмор и голос с небес в спектакле «Le Тартюф. Комедия»
- Вверх тормашками с Тартюфом
- Две порции радости и компот
- Тартюф, или Обманщик
- Юрий Муравицкий: «Два врага театра — гиперэмоциональность и отождествление»
- Тартюф как Джокер: почему новый спектакль Юрия Муравицкого сразу стал хитом
- Lё Тартюф на Lа Таганке
- Лариса Долина сыграет главную роль в иммерсивном спектакле на сцене Театра на Таганке
- «Суинни Тодд» — теперь с Ларисой Долиной!
- Меры по профилактике распространения вирусных заболеваний в Театре на Таганке
- Московские театры отменяют показы спектаклей из-за ситуации с коронавирусом
- Фоторепортаж. Меры по профилактике распространения вирусных заболеваний в Театре на Таганке
- Домашний театр: как смотреть премьеры во время эпидемии
- Во время карантина лучшие российские спектакли можно увидеть онлайн
- Театр на Таганке переводит спектакли в интернет
- Афиша на карантин: полный список бесплатных онлайн-развлечений и образовательных курсов
- Театр в сети: что и где смотреть поклонникам сценического искусства во время пандемии
- Российская культура уходит в онлайн из-за коронавируса
- Онлайн и донаты: как театры выживают на карантине
- Тартюф в гриме Джокера
- «На месяц денег хватит, а что будет дальше — большой вопрос»: как учреждения культуры выживают в изоляции
- Добро пожаловать, когда вход воспрещен: посетить музей, театр или концерт теперь можно в режиме онлайн
- Театр онлайн: путеводитель по лучшим трансляциям спектаклей
- Звезда на карантине: как артисты одолевают коронавирус
- В московских театрах рассказали о работе в условиях карантина
- Онлайн-афиша: что посмотреть, не выходя из дома
- Культура на дому: чем удивят театры
- Сидим дома: как развлечься и чему научиться онлайн
- Остаемся на связи: театры и музеи Москвы в режиме онлайн
- Фестиваль на диване: онлайн-спектакли российских театров
- В Театре на Таганке спустя 52 года поставили нового «Тартюфа»
- Театр на Таганке представит премьеру спектакля «Снегурочка» онлайн 29 марта
- Театр на Таганке перенес онлайн-премьеру из-за рекомендации пожилому актеру оставаться дома
- Премьеры на карантине: как московские театры реагируют на COVID-19
- Театр на Таганке перенес онлайн-премьеру "Снегурочки" ради народного артиста Александра Трофимова
- Последнее лацци Арлекина
- День театра сегодня отмечают онлайн
- Спектакли «Ленкома», «Современника» и Театра на Таганке покажут онлайн
- Моя отрава: коронавирус загнал московские театры в интернет
- Бизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат
- Театр с доставкой на дом: 12 платформ, где можно смотреть спектакли онлайн
- Премьера спектакля Театра на Таганке будет показана в онлайн-формате
- Не ушли со сцены: как столичные театры переживают карантин
- Про гвозди и счастье
- Программа — максимум: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
- Театр на Таганке отметил 56-летие в онлайн-режиме
- Театр на Таганке отметил день рождения
- Театр на Таганке отметил день рождения
- Театр на Таганке. Необыкновенный день рождения.
- Таганская дорога: легендарный театр отпраздновал 56-летие
- «Когда я приближалась — зрители отстранялись»
- «Мы репетировали в зуме». Театр на Таганке к 9 мая представил онлайн-реконструкцию спектакля 1965 года «Павшие и живые»
- Театр на Таганке покажет сегодня онлайн-спектакль "Павшие и живые"
- Театр на Таганке в День Победы покажет онлайн-спектакль "Павшие и живые"
- 9 мая Таганка покажет любимый спектакль Высоцкого
- Театр на Таганке 9 мая представит онлайн-версию спектакля "Павшие и живые"
- Онлайн-планы на 9 мая
- Труппа Театра на Таганке приступит к репетициям 29 июня
- Процесс пошел
- «Отпуск» кончится, когда прозвучит третий звонок»: в театре на Таганке возобновили репетиции
- Театр на Таганке вернулся к работе
- «Спутники» пандемии: артисты Театра на Таганке приступили к репетициям
- Театр на Таганке представит первый проект нового сезона "Репетиции" 9 августа
- Театр на Таганке откроется для зрителей 9 августа проектом "Репетиции"
- Театр на Таганке открыл продажу билетов на спектакли в августе и сентябре
- Московские театры объявили о премьерах и открыли продажу билетов
- Ночи на Таганке: в театре готовят концерт-прогулку памяти Высоцкого
- Таганка пустит зрителей на «Репетиции»
- Театр на Таганке открывает новый сезон
- Театр на Таганке откроется показами проекта «Репетиции»
- Поэтический марафон пройдет в день памяти Высоцкого
- "Таганка" открывается!
- Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
- Театр на Таганке открывается для зрителя спектаклем "Белый шум"
- Театр на Таганке откроется для зрителей после карантина проектом "Репетиции"
- Театр на Таганке откроется после карантина спектаклем «Белый шум». Это часть проекта «Репетиции»
- Театр на Таганке открылся первым спектаклем проекта «Репетиции 2020»
- Театр на Таганке представил первый спектакль для зрителя в рамках проекта "Репетиции 2020"
- Итоговый выпуск The City от 7 августа: летние кинотеатры, «Репетиции» и концерт The Weeknd
- В Москве открылся Театр на Таганке. Новости на "России 24"
- Шахматы и маски: московские театры вернулись к зрителям
- Театральные премьеры сентября
- Время – деньги, или страсти по Капиталу
- 9 ожидаемых театральных премьер сентября
- В Бахрушинском музее начался уличный фестиваль "Все в сад!"
- Что смотреть в театрах в сентябре
- В Театре на Таганке — премьера спектакля "Снегурочка"
- «Снегурочка» в Театре на Таганке.
- День города в Москве пройдет в камерном формате
- Куда сходить в День города в Москве
- В саду "Эрмитаж" стартовал "Театральный марш"
- «Снегурочка» в Театре на Таганке: перемен требуют наши сердца
- Бассейн, поп-музыка и любовь. Из чего состоит «Снегурочка» Театра на Таганке
- Культурный код. Юрий Грымов и Ирина Апексимова
- Театр на Таганке сыграл на воронежской сцене фарс «Тартюф» в площадной эстетике
- Текст на выживание
- Театр на Таганке показал в Воронеже «Тартюфа» в стиле панк-буффонады
- Площадная грань
- Константин Крюков о сильных мира сего, бриллиантах и прибавлении в семье
- История о любви в современном мире. Театр на Таганке покажет премьеру «Снегурочки»
- Театр на Таганке представил премьеру спектакля Дениса Азарова "Снегурочка"
- Беседа Владислава Флярковского с режиссером Денисом Азаровым
- В Театре на Таганке прошла премьера спектакля «Снегурочка»
- Пять молодых режиссеров при поддержке Microsoft, Bazelevs и Театра на Таганке сняли альманах о технологиях для Okko
- Microsoft сделала видео-альманах о технологиях
- Okko покажет фильмы о технологиях будущего в жанре screenlife
- Okko представит в октябре подборку фильмов на любой вкус
- "Снегурочка", или С легким паром!
- Три театральные премьеры, которые зрители должны были увидеть весной
- «Ты бежишь, а за тобой волна все сметает»: музыкант Василий Уриевский - о карантине, концертах онлайн и смехе сквозь ковид
- Современная «Снегурочка»: настоящая любовь, страсть и деньги на сцене Театра на Таганке
- 12 декабря в Театре на Таганке пройдет премьера спектакля «Отелло»
- Театр на Таганке представит новую версию "Отелло"
- Петербуржцы выпускают премьеру «Отелло» на Таганке
- "Отелло" - новый спектакль в Театре на Таганке
- Ирина Апексимова рассказала о новом спектакле
- Премьера спектакля «Отелло»
- Нескучная классика: 6 неожиданных спектаклей по классическим произведениям
- В новом «Отелло» Театра на Таганке расовый конфликт отсутствует, а Яго играет женщина
- «Я не феминистка, боже упаси!»
- Юрий Муравицкий стал победителем премии журнала «Сноб»
- 7 лучших спектаклей 2020 года
- «Ваш досуг» рекомендует: 13 самых интересных спектаклей 2020 года
- Шекспир полушепотом
- Что случилось с театром в 2020 году
- «Проголосовали рублем»: 13 лучших спектаклей 2020 года по версии зрителей
- Главная роль. Ирина Апексимова.
- Ирина Апексимова: "Мягкость часто принимают за слабость"
- Ирина Апексимова отметит юбилей на сцене Театра на Таганке
- 6 театральных премьер января
- Премьера спектакля "Вишневый сад" в Театре на Таганке запланирована на конец апреля
- Главные премьеры сезона
- Три театральные премьеры: бессмертная классика и забытые имена
- Новости. Подробно. Театр. О спектакле «Отелло»
- «Необарды» на Таганке
- Программа «Однажды». Юбилей Ирины Апексимовой
- «Снегурочка» и «Отелло» в Театре на Таганке
- В марте в Театре на Таганке пройдут премьерные спектакли
- Программа «Пешком...». Москва Юрия Любимова
- Программа «2 Верник 2». Интервью с Дарьей Авратинской
- Театр на Таганке объявил дату премьеры спектакля «Вишневый сад. Комедия»
- Гид по «Ночи Театров» в Москве
- Куда пойти на «Ночь театров» в Москве
- Культ личности: что происходит в Театре на Таганке
- Театральные премьеры апреля
- Что посмотреть в театре в апреле
- 6 театральных событий апреля
- Топ театральных премьер апреля: выбор The City
- В Саратове Отелло не задушил Дездемону
- Что смотреть в театрах Москвы и Петербурга в апреле
- «Вишневый сад. Комедия»
- Премьера спектакля "Вишневый сад. Комедия" в Театре на Таганке состоится 23 и 24 апреля
- «Вишневый сад. Комедия» в Театре на Таганке – бесконечный перформанс и шоу
- В Театре на Таганке пройдет премьера спектакля «Вишневый сад. Комедия» Юрия Муравицкого
- «Вишневый сад. Комедия». Смотрим новый спектакль Театра на Таганке
- "Охотники за искусством" и "Библионочь": чем заняться в эти выходные в Москве
- Вишневый сад. Комедия. Фоторепортаж
- Стендап и Тарантино по сенью вишневого сада
- «Вишневый сад. Комедия» в Театре на Таганке: смех вместо слез»
- В Театре на Таганке показали спектакль «Вишневый сад. Комедия»
- Рождение Театра на Таганке. День в истории
- Театр на Таганке отметит День Победы премьерой Дениса Хусниярова
- «В окопах Сталинграда», «БЫТЬ!», «Спутники»: Лучшие спектакли о войне в московских театрах
- Московский театр на Таганке покажет ко Дню Победы спектакль о поезде милосердия
- Театральные премьеры мая
- Ко Дню Победы: 5 спектаклей о войне в московских театрах
- Какие театральные премьеры ждут москвичей в мае
- Главные театральные премьеры мая
- Театр на Таганке представит спектакль «Спутники» о военном поезде милосердия
- Взгляд снизу: зачем Юрий Муравицкий снова сделал «Вишневый сад» комедией
- «Я покурю…»: Почему деконструкция «Отелло» в Театре на Таганке — это очень хорошо, но не все это поняли
- «Спутники» в Театре на Таганке – тихие разговоры и громкие стоны под стук колес
- Москва онлайн покажет закулисье спектакля «Lё Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке
- «Снегурочка.16+» в постановке Дениса Азарова: последние показы
- Культурная неделя: выбор «Известий»
- Лучшие премьеры: пять спектаклей сезона, которые можно увидеть в июне
- «Lё Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке – смысл надо искать не в словах, а в мизансценах
- Вишневое кабаре
- Бассейн, шашлыки и жажда любви: в Театре на Таганке представили свое видение «Снегурочки» Островского
- Это мой город: певица Лариса Долина
- «Вишневый сад» для поколения Z
- Финал сезона. Что нового показывают театры в июле
- Театр на Таганке открыл сезон уникальным спектаклем в честь Высоцкого
- Театр на Таганке посвятит премьеру спектакля "Земляничная поляна" Юрию Любимову
- "Памяти Владимира Высоцкого": Московский Театр на Таганке одним из первых открыл сезон
- Накануне Дня города Собянин наградил заслуженных москвичей
- «Земляничная поляна». Премьера в Театре на Таганке.
- «Земляничная поляна». Все о новом спектакле Театра на Таганке
- Режиссер Марфа Горвиц – о спектакле "Урожай" в театре на Таганке
- Время собирать урожай. Марфа Горвиц поставила в Театре на Таганке спектакль по пьесе Павла Пряжко
- Квест в яблоневом саду. Спектакль «Урожай», Театр на Таганке
- Танец «в яблочко»
- «Онегин» с легким канадским акцентом: смотрим новый мюзикл Театра на Таганке
- Мюзикл "Онегин" – первая премьера Объединённого театра на Таганке
- «Онегин». Премьера в Театре на Таганке. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 17.12.2021
- ВОТ И СЛУЧИЛОСЬ: «Женитьба. Трагедия»
- Приходу рады: "Женитьба. Трагедия" по Н.Гоголю в Театре на Таганке, реж. Андрей Гончаров
- Несемейная драма в Театре на Таганке
- Юрий Муравицкий: Юмор – несущая конструкция театра
- «Не пропусти любовь!»: премьера мюзикла «Онегин» в постановке Алексея Франдетти на сцене Театра на Таганке
- «Обнимемся покрепче, и жить нам станет легче»: в Театре на Таганке мюзикл «Онегин»
- Театр на Таганке готовит премьеру – русскую версию "Дона Кихота"
- «Дон Кихот». Премьера в Театре на Таганке. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 23.04.2022
- Офорты Фомина, триатлон и театр: афиша на выходные в Москве
- "Дон Кихот" — премьера в Театре на Таганке
- Режиссер Денис Хуснияров – о спектакле "Дон Кихот"
- «Дон Кихот», или букет из сценических версий фильмов «Невероятные приключения итальянцев (испанцев) в России», «Горько!» и «Хождение по мукам»
- Он прожил жизнь безумца. «Дон Кихот» или Санчо Панса. Руссикй дневник.
- Жалить, жалеть, желать: как Бабель снова стал актуальным писателем
- «Черная кошка, белый кот». Премьера в Театре на Таганке. Фрагмент выпуска от 28.01.2023
- «Черная кошка, белый кот»: премьера на сцене Театра на Таганке
- В Театре на Таганке представили спектакль "Чёрная кошка, белый кот"
- Циркачи с Балкан. О новом спектакле Юрия Муравицкого «Черная кошка, белый кот»
- «Не Любовь 5728»: мюзикл Алексея Франдетти в Театре на Таганке
- «Утиная охота»: Экзистенциальный кризис в трех лицах
- В Театре на Таганке перелистывают "104 страницы про любовь"
- Запаситесь нежностью
- Рецензия на спектакль «104 страницы про любовь» в Театре на Таганке: еще раз о единстве противоположностей
- Влюбленные часов не наблюдают
- «104 страницы про любовь»: Ностальгия по большому и светлому чувству
- «Причал» – первая премьера нового сезона Театра на Таганке
- Театр на Таганке открыл новый сезон спектаклем «Причал»
- Театр на Таганке представил премьеру спектакля «Причал» по мотивам сценария Шпаликова
- Под красным знаменем любви: больше, чем просто товарищи
- Советская комедия дель арте
- Премьера спектакля «Три + три» прошла в Театре на Таганке
- Благословите актрису! / «Кастинг 81/18» в Театре на Таганке
- «Щелкунчик». Премьера в Театре на Таганке
- Денис Бокурадзе поставил в Театре на Таганке спектакль «Фигаро»
- «Мой бедный Марат» – премьера в Театре на Таганке
- Премьера спектакля «Мой бедный Марат» состоялась на сцене театра на Таганке
- Премьера спектакля «Весёлые ребята» состоялась на Новой сцене Театра на Таганке
- В Театре на Таганке – премьера спектакля по мотивам фильма «Весёлые ребята»
- Спектакль по мотивам фильма «Весёлые ребята» поставили в Театре на Таганке
- Советский фильм на театральной сцене: в Театре на Таганке прошла премьера спектакля «Весёлые ребята»
- Премьера спектакля «Весёлые ребята» в Театре на Таганке
- «Весёлые ребята» в Театре на Таганке: энергично, задорно и с тонким юмором
- «Весёлые ребята»: Любовь все еще существует
- Пять причин сходить на «Весёлых ребят»
- «Долгие проводы» («Про маму»)
-
-
Билеты
-
Контакты
«Мастер и Маргарита» - 45 лет спустя

6 апреля 1977 в Театре на Таганке состоялась премьера, в выпуск которой не верили ни наверху, ни вокруг театра, ни даже внутри него – Юрий Любимов выпустил «Мастера и Маргариту». О том, как он тасовал чиновничью колоду, хитрил, заручался поддержками, шел ва-банк, написано немало историй. О том, что спектакль значил в истории театра, написано еще больше статей и диссертаций. Через его роли прошли все поколения артистов Театра на Таганке, передавая его тайны из рук в руки. Отдельной главой в театральные учебники вошла сценография Давида Боровского, сочинившего пространство древнего Ершалаима и Москвы тридцатых исключительно из подручных средств (занавес из «Гамлета», золотая рама из «Тартюфа», маятник из «Часа пик» и так далее). Спектакль, на который государство не выделило ни копейки, идет на сцене до сих пор, собирая полные залы.
Алексей Граббе (Марк Крысобой, Автор): «Справедливость – дело Бога, но он недостижим»
- В спектакле я играю с самого начала. Сначала это были массовки (бал, сумасшедший дом), Крысобой, много позже, когда с нашим Автором, замечательным Виктором Семеновым случился инсульт, я срочно ввелся на его роль. Наш бутафор даже изготовил мне «старинный» фолиант, чтобы я мог подсматривать текст. Возможно, без фигуры Автора и можно было обойтись, но сама литература, оставшаяся за границами инсценировки, добавляла свои краски. Брабантские кружева булгаковских слов добавляли свои краски и блики, все это посверкивало и украшало спектакль.
В «Мастере» многое «размял» Александр Вилькин. У Любимова была такая особенность – он не любил (и не умел) начинать с нуля. Ему надо было от чего-то оттолкнуться, чтобы, отрицая или, наоборот, развивая, собирать спектакль, отбирать лучшее из придуманного. Вот отборщиком он был гениальным. Вторые режиссеры менялись довольно часто. Но Саша Вилькин сразу принял правила игры и держался с подчеркнутым пиететом. Самым уникальным среди вторых режиссеров оказался Ефим Кучер (он потом уехал в Израиль) – настоящий еврейский мудрец, талантище, скромняга, он многое сделал в этом качестве и умудрился добиться каких-то собственных постановок здесь.
Обстановка на репетициях была очень хорошая, редкая. Мы, привыкшие, что каждый спектакль сдается с боем, ощущали тут особую приподнятость, понимая, что и в социальном, и в художественном смысле делаем что-то стоящее. Самое трудное в искусстве – это простота. Наворотить что-то сложное, глубокомысленное всегда можно. А вот получить максимальный эффект минимальными средствами – это и есть самое ценное. «Мастер и Маргарита» и «Добрый человек из Сезуана» именно так и сделаны, поэтому они до сих пор с нами.
Самыми запомнившимися ролями стали Иешуа, Прокуратор и Воланд. Саша Трофимов, Виталий Шаповалов и Веня Смехов. То, что делал Смехов, забыть невозможно. Как человек очень одаренный литературно, он точно угадал инфернальную сущность своего персонажа. Скажем, прекрасный артист Сева Соболев в роли Воланда играл этакого белогвардейца, который когда-то вынуждено покинул родину, а теперь вернулся – и его все раздражает. Человек в чуждом мире – можно было и так, но такая трактовка принижает то, что написано у Булгакова. Как найти сценический эквивалент этим разноцветным глазам, неуловимым изменениям? Смехов нашел – и интонацию, и внешность существа, находящегося здесь и не здесь. Все воспринимающего, но равнодушного. И тем не менее, вынужденного осуществлять справедливость. Казалось бы, справедливость - дело Бога, но он так недостижим, что приходится засучить рукава дьяволу, в природе которого – устраивать каверзы. Поразительная мысль Булгакова, написанная в самый разгар репрессий!
А как играл головную боль Шаповалов – Понтий! Когда плохой артист играет пьяного, он шатается и заплетает язык, но глаза у него трезвые! Хороший же будет деятелен и собран, а пьяными будут как раз глаза, замедленное моргание. Так и Виталий – он не играл головную боль, он играл чудовищную сосредоточенность. К боли его Пилат привык, привык заниматься государственными делами, но тут сквозь боль проступал еще и его интерес к Иешуа. И страх за последствия будущей катастрофы. Этот бархатный голос и сосредоточенный вид невозможно забыть!
Все, что было после, было ниже уровнем, но жесткая, кристальная структура, красота сохраняла к спектаклю интерес. Трудно объяснить, что такое стиль спектакля. Но Таганка была сильна своим стилем. Своими не бытовыми интонациями, своим драйвом, внутренним напором. Мы всегда играли с ощущением, что дверь перед нами приоткрыта и надо толкать ее изнутри.
Юрий Смирнов (Бегемот, Лиходеев): «Четверть века Юрий Петрович отстоял в проходе со своим фонариком»
- Сначала мне достался Коровьев, а Ване Дыховичному Бегемот, но нам захотелось поменяться, и мы пошли с этой просьбой к Любимову. Нас было четверо Котов – Феликс Антипов, Расми Джабраилов, я и еще один – очень хороший пантомимист Юрий Медведев, но он сыграл всего пару раз.

Как известно, денег театру на этот спектакль не дали, и тогда наш гениальный Дава Боровский придумал коллаж из разных спектаклей – специально будешь выдумывать, но так здорово не получится. Первый вариант спектакля шел почти пять часов с двумя антрактами. Но потом потребовали сокращений, и Любимов стал отказываться от разных сцен – подготовки к балу, сцене в магазине «Березка» (между двух березок), ареста Кота, когда приходилось взмывать вверх, - протаскивая свою главную тему: художник, власть и время.
Кто такой Кот Бегемот? Бывший аристократ, который за что-то провинился перед Всевышним, и Воланд на определенный срок обрек его ходить в таком облике. Конечно же, это не котик из детского утренника, а человек. Но я, будучи кошатником, подглядывал за своим котом – как он ходит, смотрит, «язвит». Это уж актерская профессия. По словам Юрия Петровича, «спектакль я поставил, а дальше уже ваша работа, которая не заканчивается с выходом из театра». Как говорил гениальный актер Николай Гриценко, у которого я однажды решил узнать секрет его работы над ролями, «я делаю то, что другим не приходит в голову».
Юрий Петрович добивался, чтобы все было плавно, гладко, сопряжено одно с другим, чтобы все «пело» во время спектакля – радио, свет, рабочие, актеры. Перед премьерой мы сыграли порядка четырнадцати спектаклей каждый день подряд, добиваясь этой слаженности. Это уровень, фирма, класс! Он добивался класса! Недаром же он простоял на этом спектакле в проходе со своим фонариком четверть века! Так и достигается уровень. После каждого акта в антракте и после спектакля он собирал нас и делал замечания.
С годами я перешел на Лиходеева. Просто пришел однажды к Юрию Петровичу и взмолился: «я человек пожилой, кому приятно смотреть на мою не совсем одетую фигуру?» - «Ладно, - ответил Юрий Петрович. – Но из спектакля ты не уходи», - и предложил нам с Антиповым роль Лиходеева.
На наших репетициях частенько появлялись такие находки, что авторы потом, при переиздании, вставляли их в свои произведения. С Булгаковым этот номер пройти не мог, но некоторые вольности я себе позволяю. Фраз опохмеляющегося Лиходеева «точно ангел босиком по душе пробежал» или «а вот и вторая балеринка просвистала» у Булгакова не было, но надеюсь, он был бы не против.
К молодым актерам, которые сегодня играют этот спектакль, у меня нет никаких претензий. Здесь никогда не было полноценных вдумчивых вводов. По-хорошему спектакль надо ставить на репетиции. Но инсценировка и форма у него такая, что даже в сегодняшнем виде можно понять, что это было. Спектакль стал другим еще при Юрии Петровиче. Да и сам он стал другим, и вообще того театра, в котором родился «Мастер и Маргарита», больше нет – сегодня я служу в другом театре. А тот – кончился, и это закономерно.
Александр Резалин (Воланд): «Со мной стала происходит удивительная метаморфоза»
- Первый раз я увидел «Мастера и Маргариту» еще будучи студентом технического вуза. Был у меня товарищ, мама которого могла достать билеты на всякие модные спектакли. Как известно, билеты на «Мастера и Маргариту» и другие спектакли Таганки были валютой, а в первых рядах сидели врачи и товароведы. Роман на машинописных страницах я тогда уже прочитал. Не могу сказать, что спектакль меня потряс, но его красоту я запомнил.
А следующая моя встреча с «Мастером» произошла, когда я уже пришел сюда работать. Моя инфернальная внешность прямо подвела меня к роли Воланда – да и штаны Смехова оказались впору. К тому же у меня уже был «сатанинский» опыт – в Театре Луны я играл Мефистофеля с двумя Фаустами - Анатолием Ромашиным и Никитой Высоцким. Когда я посмотрел «Мастера и Маргариту» еще раз, у меня, признаться, были сомнения – а надо ли в эти старые мехи вливать новое вино? Возможно, мне тогда довелось посмотреть неудачный спектакль. Но когда я ввелся и стал играть, со мной стала происходить удивительная метаморфоза. Мне стало интересно существовать в этом спектакле. Может, сыграло свою роль то, что в спектакле стали появляться новые, не уставшие от него артисты? Или потому что достаточно жестко держится форма? Коллеги, которые уже давно в нем играли, стали рассказывать мне про спектакль – «сеанс», как они его называют. Такая наша устная Тора – то, что передается из уст в уста поверх написанного. Вводясь на роль, роман Булгакова я не перечитывал – боялся сравнений со спектаклем. Но с интересом перечитал книгу Мариэтты Чудаковой – она меня куда-то правильно подтолкнула.
Инфернальные роли, как было сказано, мне близки. Но играю я все равно живого человека. Добро и зло, свет и тьма, необходимость выбора – это то, с чем сталкивается любой из нас. Эта роль, при всей жесткости формы, позволяет выплеснуть что-то свое, наболевшее. Чем и ценна актерская профессия. Ты говоришь о том, что тебе по-настоящему важно, а зрители думают – ого, как играет. Из «Мастера и Маргариты» давно исчез привкус запретного. Для новых зрителей он оказался в одном ряду с «Гарри Поттером» или «Альтистом Даниловым». Но и в таком качестве он по-прежнему хорошо идет.
Мария Матвеева (Маргарита): «Я до конца так и не сыграла эту роль»
- На первом же показе этюдов у нашего курса (последнего курса Юрия Петровича) Анатолий Исаакович Васильев отобрал двух мальчиков и двух девочек для вводов. Так мы с Сашей Басовой впервые попали в «Мастера и Маргариту», в массовку. Никаких специальных репетиций для нас не делали – все приходилось схватывать на лету. В юности это воспринималось как увлекательный аттракцион на адреналине. И мы просто были счастливы оттого, что учимся на курсе у самого Юрия Любимова и сейчас оказались на легендарной сцене.
Вообще у нашего курса сложилась уникальная ситуация. Юрий Петрович довольно ревниво относился к другим педагогам, не давал нас «испортить» даже тем, кто работал с ним вместе. Доходило до смешного. Однажды я стояла в фойе со своей мамой, когда он, проходя мимо, сказал: «Отойдите от моей ученицы». Он задействовал нас во многих репетициях, не отпуская даже на экзамены. Так, во время репетиций спектакля «Идите и остановите прогресс (ОБЕРИУты)» мы вылезали через балкон, чтобы сбегать прямо в балетках в ГИТИС по соседству с театром и сдать зарубежную литературу, а потом незаметно вернуться. С одной стороны, мы не учились, как положено, зато сразу приобретали опыт, не приходилось переучиваться, находить общий язык с новым мастером.
Вместо уроков по актерскому мастерству нас кидали в эти вводы, и в итоге каждый сам как-то приходил к пониманию профессии. В итоге наш музыкальный курс, где были люди с настоящими оперными голосами, отучился не пять положенных лет, а четыре – все перешли на сторону драматического театра. Про себя могу сказать, что мне легко давался вокал, я побеждала в разных конкурсах, мама мечтала видеть меня в оперетте – в красивых платьях. Но я не искала легких путей, мне для чувства удовлетворения нужно было что-нибудь преодолеть, и драматический театр стал для меня именно таким местом. Конечно, мы заскочили в последний вагон с нашим то ли несчастным, то ли счастливым курсом Любимова. Ездили на стажировку к Тадаши Сузуки. Успели пообщаться с Виталием Шаповаловым, Львом Штейнрахом и другими мастерами.
В следующий раз приключилась какая-то история с исполнительницей Геллы – и вновь меня вводили на роль в день спектакля. Помню, буквально за полчаса до начала меня осмотрел Юрий Петрович. А Татьяна Ивановна Сидоренко (первая Гелла) даже принесла мне свое платье в сеточку и все говорила, что я могу ее расспрашивать про роль сколько надо. Для старшего поколения мы тоже были в диковинку – двадцать лет в театре не было притока свежей крови. Конечно, такие вводы очень тебя мобилизуют: все участники спектакля пытаются впихнуть в твою голову все, что положено, а ты думаешь о том, чтобы запомнить хоть часть из этой информации и как-то еще сохранить свою индивидуальность на сцене. Конечно, нам очень помогали артисты, давно игравшие в спектакле. А позже я поняла – каждый новый ввод заставляет встряхнуться весь состав.
Так, бегая в массовках, участвуя в вводах, пересмотрев видео, я изучала «Мастера и Маргариту». Многое дало мне общение с Вениамином Борисовичем Смеховым, с которым мы вместе играем «Флейту-позвоночник», я даже успела попасть в тот уникальный спектакль, когда его, спустя много лет после ухода из спектакля, попросили однажды сыграть Воланда. Он много рассказывал о том, как они репетировали – играючи, с легкостью и азартом. Наверное, так и надо создавать искусство - да и жить тоже.
Мой ввод на Маргариту произошел уже после ухода Юрия Петровича из театра. Тогда появилась возможность подать заявки. И я показалась на роли в спектакли «Доброго человека из Сезуана» и «Мастера и Маргариту». Шен Те была мне ближе, а про Маргариту я понимала гораздо меньше. «Страшно, когда женщина от горя и бед становиться ведьмой». Я бы, особенно на тот период моей жизни, от таких невзгод скорее бы спряталась от всех. В общем, от неуверенности… я купила себе парик жгучей брюнетки – мне же надо играть ведьму. Пробы – сцену в окне и маятник – принимала целая комиссия, решено было меня взять. Сегодня я осталась единственной Маргаритой и в какой-то момент позволила себе быть блондинкой – как и было задумано художником Давидом Боровским для Маргариты – Нины Шацкой.
Мне нужно было понять, как встроиться в ансамбль на сцене, как уловить полет голоса, небытовую речь, но при этом остаться собой. Как сохранить преемственность и играть так, чтобы не было стыдно перед первыми исполнителями. Мне очень важно и ценно, что в «Добром человеке» мне досталась кофточка Зинаиды Славиной, а в «Мастере» - платье Нины Шацкой: когда-то сиреневое, теперь выцветшее до бледнорозового, но с сиреневой подкладкой. Знаю, что она хотела подарить мне сережки, в которых играла Маргариту, но не случилось. Еще я знаю, что мои вводы Юрий Петрович смотрел по видеозаписи. Говорили, что в «Добром» он потребовал убрать у меня пучок, а про Маргариту ничего не сказал. Хочется думать, что он их принял…
А еще мне довелось поработать над ролью с Зинаидой Славиной. Это была очень странная встреча – во время похорон Валерия Золотухина меня представили ей, как исполнительницу Шен Те – ее роли. Так мы прошлись с ней по моим Шен Те и Маргарите (она была первым Азазелло, и я бы тоже с интересом попробовала бы себя в этом качестве).
И еще я думаю, как играть любовь Маргариты сегодня? Идти ли от себя? Когда бы я смогла смириться или не смириться с потерей любимого человека? Или пытаться понять, кто такая Маргарита? Насколько она похожа на жену Булгакова? Что такое полет ведьмы – сон или сумасшествие? Чем дольше я играю, тем больше осознаю, что до конца так и не сыграла эту роль.
Конечно, спектакль меняется, но по-прежнему собирает залы (в том числе, благодаря своей форме) и не теряет актуальности! Это редкий случай получившегося спектакля по «Мастеру и Маргарите». Как будто кто-то действительно договорился с Булгаковым, и тот дал зеленый свет.
Александр Трофимов (Иешуа): «Эта роль очень помогала мне жить»
- Когда я увидел себя в списке распределений, ощущения были самые замечательные. Мне было 24 года, позади Щукинкий институт, год в армии, приглашения из нескольких театров, из которых я выбрал Театр на Таганке, посмотрев там несколько спектаклей. Юрий Петрович проявляет ко мне активный интерес. Репетировали мы с большим воодушевлением, хотя вплоть до премьеры все сомневались, что нам позволят выпустить спектакль. А когда он вышел, да его еще и не запретили, получилось сразу две сенсации. Актеры рвались играть не то что главную роль – любой эпизод, даже в массовке.

Редкий случай, но, когда я показал роль Иешуа, как мне представлялось надо ее играть, Любимова настолько все устроило, что такой она и осталась. Помню даже, когда кто-то из ассистентов в момент нашей сцены с Пилатом – Виталием Шаповалым начал что-то шептать Любимову на ухо, он одернул: не мешайте, мол, пусть делает, как считает нужным. Значит, интуитивно я нашел верный тон. Не такая уж большая у меня была роль по времени – разговор с Пилатом, Распятие и все. Но в контексте всего спектакля она была одной из важнейших. В калейдоскопе разных сцен на нашем диалоге вдруг устанавливалась такая тишина, что даже скрипа стула было не слышно. Ни лица, ни звука – и было ощущение, что мы действительно одни во всей Вселенной. В таком состоянии можно было брать любую паузу, любую интонацию, но я, конечно, никогда этой возможностью не злоупотреблял. Конечно, бывали у меня разные истории с этой сценой. Как-то на гастролях в Ленинграде нам достался зал какого-то ДК – длинный и вытянутый. Мне пришлось форсировать голос, чтобы меня слышали зрители дальних рядов, и впечатление было испорчено. В другой раз прямо передо мной один человек всю сцену что-то говорил другому – оказалось, какой-то дипломат и переводчик. Но в основном тишина воцарялась такая, что затягивала, как воронка.
Юрий Петрович говорил мне: «Саша, на дай Бог вам подумать, что вы играете Бога. Поберегите психику. Представьте, что играете странника, одного из апостолов раннего христианства, праведника». Такой совет и привел меня к верной интонации. Я спокойно переключался на другие роли: сегодня на Кресте, а завтра в роли Раскольникова бегаю за старушками с топором – и это нормально. Но роль Иешуа всегда ждал. Со временем меня стали одолевать сомнения, не потеряю ли я первозданную, живую интонацию от бесконечного повторения, не превращу ли ее в штамп. Спустя 35 с лишним лет, когда Юрия Петровича уже не было в театре, я понял, что теперь имею моральное право попросить отпустить меня из спектакля. Конечно, все, что я мог сделать для Филиппа, моего преемника, я сделал, показал, рассказал. Но с тех пор уже не могу воспринимать спектакль – в моей памяти он навсегда связан с прошлыми годами и первым составом. Хотя и понимаю, что более молодому поколению по-прежнему интересно его смотреть.
Я не могу назвать Иешуа ролью, для меня это было что-то иное, даже не совсем театральное. Без всякой мистики, в которую я не верю, могу сказать, что в течение тридцати лет роль Иешуа очень помогала мне жить. Спектакли шли довольно часто, и когда у меня возникали какие-то искушения по любому поводу, я говорил себе – тебе же через два дня выходить на сцену со словами Иешуа, опомнись, как ты будешь их произносить. Иешуа помогал мне поддерживать веру в то, что мне дорого. Благодаря ему не притуплялись чувства любви к тому, что я любил, и ненависти к тому, что я ненавидел. Благодаря ему я сохранил свой максимализм юности по отношению к подлецам, которым – продолжаю так считать – всегда надо давать отпор. Смирение Иисуса – понятие гораздо более сложное, чем наше банальное соглашательство, достаточно вспомнить изгнание торговцев из Храма. Эта работа оказалась самой дорогой из всего, что я сделал в театре. Ни Раскольникова, ни Ричарда, ни Ясона – никакую другую роль я не могу сравнить с Иешуа.